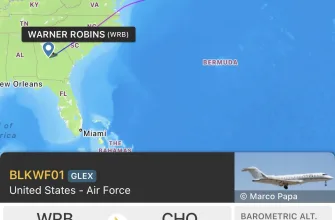Добавь сайт в закладки нажми CTRL+D
В конце 19 века американский палеонтолог Эрвин Хинкли Барбур из Университета Небраски обнаружил странные каменные идеально закрученные спирали, высотой иногда под три метра. Местные жители так и прозвали эти штуки – «дьявольские штопоры». Ученые же дали им более солидное, но не менее странное название – Daemonelix, что с греческого переводится примерно так же: «дьявольская спираль».
Находят эти спирали в основном в так называемой формации Харрисон – это слои очень мелкого песчаника, которым примерно 20-23 миллиона лет. Эпоха миоцена. Но при чем тут эти штопоры?
Что это такое вообще?
В 1891-1892 годах палеонтолог Эрвин Хинкли Барбу собирал коллекцию ископаемых млекопитающих для своего университета и, конечно, не мог пройти мимо такой диковинки, как «дьяволский штопор». Ведь ничего подобного науке доселе известно не было.
Поначалу Барбур, осмотрев эти спирали (а они, кстати, бывают закручены как вправо, так и влево), предположил, что это остатки гигантских пресноводных губок. Так как в то время считалось, что формация Харрисон – это донные отложения древнего озера. А, где озеро, там и губки…
Однако, присмотревшись повнимательнее, Барбур обнаружил внутри спиралей что-то похожее на растительные волокна. Тогда он решил, что это не губка, а какое-то ископаемое растение. Может, гигантский корень такой странной формы? Или вообще целое растение, которое росло вот так, ввинчиваясь в грунт? Эта версия ему понравилась больше, и именно ее он изложил в своих первых публикациях. Он описывал их как «великолепные формы» с «идеальной симметрией».
Научное противостояние
Но не успел Барбур насладиться своим открытием, как появились другие научные светила того времени. И у них было совершенно иное мнение.
Почти одновременно, в 1893 году, два палеонтолога – американец Эдвард Дринкер Коп (тот, что прославился «костяными войнами» с Отниелом Маршем) и австриец Теодор Фукс – независимо друг от друга заявили, что это дьявольские штопоры вовсе никакие не растения, а норы. Обычные норы древних грызунов. Фукс даже предположил, что это могли быть предки современных сусликов. Звучит диковато, но идея была высказана.
Барбур, конечно, был возмущен. Какие еще норы? Какие грызуны? Он же был уверен, что вокруг было озеро. «Суслику доктора Фукса, – язвительно писал он, – остается только зарыться и построить гнездо из сухого сена на глубине ста или двухсот саженей миоценовой воды». Такие вот были были научные дебаты.
Но у сторонников гипотезы «нор» появился весомый аргумент. Еще один палеонтолог, Олаф Петерсон из Музея Карнеги в Питтсбурге, привез несколько «штопоров» к себе в музей и стал их внимательно изучать.
Петерсон обнаружил, что внутри этих спиралей часто попадаются кости. Кости вполне конкретного зверька – вымершего бобра под названием Palaeocastor (палеокастор, то есть «древний бобр»). Этот палеокастор был размером примерно с луговую собачку или небольшого сурка – около 30 см в длину, весом килограмма полтора. Жил он как раз в миоцене.
Более того, Коп, Фукс и Петерсон обратили внимание на странные царапины на внутренних стенках спиралей. «Это же следы когтей! – заявили они. – Зверь рыл нору и царапал стенки».
Постепенно чаша весов начала склоняться в пользу «бобровой» теории. Находки костей палеокасторов внутри Daemonelix были слишком уж частыми, чтобы быть простым совпадением. Даже ученик Барбура, Чарльз Бертран Шульц, в конце концов признал правоту оппонентов своего учителя. Казалось бы, загадка дьявольских штопоров решена. Но все же оставались вопросы.
Во-первых, как такой небольшой зверек мог вырыть столь идеально ровную и глубокую спираль? Современные бобры, конечно, тоже роют норы в берегах, но ничего подобного не создают. Во-вторых, а как же растительные остатки, которые нашел Барбур? Куда их девать?
Из-за этих неясностей, а может, просто потому, что появились другие интересные темы, исследования «дьявольских штопоров» надолго затихли. Теория о норах палеокасторов стала общепринятой, но загадка не до конца раскрытой оставалась еще почти 80 лет.
И вот, в 1970-х годах, за старую загадку дьявольских штопоров взялись новые исследователи – Ларри Мартин и его студентка Деб Беннетт из Университета Канзаса. И тут помогли смежные дисциплины. Геологи к тому времени уже пересмотрели свои взгляды на формацию Харрисон.
Оказалось, что это вовсе не озерные отложения. Это древние песчаные дюны, нанесенные ветром за миллионы лет в условиях довольно сухого, полузасушливого климата – примерно такого же, как в Небраске и сейчас. А это уже меняло всё. Главный аргумент Барбура против нор – «какие грызуны под водой?» – рассыпался. Если местность была сухой, то и рыть норы там было самое то.
Мартин и Беннетт снова внимательно изучили царапины на стенках спиралей. Они сравнили эти царапины со строением зубов и когтей палеокастора. И оказалось, что это следы не когтей, а резцов — бобровых зубов, которыми они валят деревья.
Палеокастор рыл свои спиральные шахты в основном с помощью зубов, совершая характерные лево- или правосторонние движения. Кстати, да, были бобры-«левши» и бобры-«правши», судя по направлению закрутки спирали 🙂 Когтями они тоже работали, но в основном уже при строительстве боковых ответвлений и жилой камеры.
Нора с кондиционером
Но зачем бобрам понадобилось рыть именно спирали? Не проще ли было выкопать обычную наклонную нору? Мартин и Беннетт предположили, что это было такое хитрое инженерное решение.
Бобр сначала рыл вертикальную спиральную шахту глубиной до 2-3 метров. А уже от ее нижнего конца начинал копать вверх, под углом примерно 30 градусов, боковой тоннель длиной до 4-5 метров, который и заканчивался уютной жилой камерой. Там он спал, растил детенышей (в таких камерах находили кости молодняка). Зачем такие сложности? Вероятно, для комфортного климата в норе.
В условиях сухого и жаркого климата (а в эпоху миоцена было, чем сейчас) глубокая спиральная шахта работала как естественный кондиционер. Благодаря ей в жилой камере держалась более-менее стабильная температура и высокую влажность, защищая бобра и его потомство от перегрева.
К тому же такая винтовая нора, возможно, затрудняла доступ хищникам. А врагов у палеокастора хватало – например, примитивные ласки Zodiolestes, чьи кости тоже находили рядом со «штопорами», а иногда и внутри. Есть даже находка, где скелет ласки обнаружился прямо в норе бобра – видимо, залезла полакомиться, а выбраться уже не смогла.
Последние кусочки пазла
Оставался последний вопрос: откуда взялись растительные остатки, сбившие с толку Барбура? И на это нашлось объяснение. В сухом климате растения всегда ищут влагу. А где ее найти в песчаных дюнах? Например, в глубоких и влажных бобровых норах. Корни растений буквально прорастали сквозь стенки спиральных нор и боковых тоннелей, пользуясь благоприятным микроклиматом, созданным бобрами.
А как же эти норы, вырытые в песчанике сохранились на миллионы лет, да еще и в виде таких четких спиралей?
Песчаник формации Харрисон содержит много вулканического пепла. Дождевая вода, просачиваясь сквозь песок, растворяла из этого пепла кремнезем. Насыщенная кремнеземом вода попадала в бобровые норы. А корни растений, оплетавшие стенки нор, активно впитывали эту воду вместе с растворенным кремнеземом.
Со временем кремнезем откладывался в тканях корней, минерализуя их. Корни окаменевали, но сохраняли свою форму. Постепенно вся нора, или, точнее, ее оплетка из корней, превращалась в твердую, прочную структуру – дьявольские штопоры. Окружающий песчаник был мягче и со временем выветривался, обнажая эти спирали.
Так что, Барбур был отчасти прав, найдя растительные остатки. Но растения не создавали спирали, они лишь помогли их сохранить, став своего рода «арматурой» для слепка бобровой норы. Вот такой вот палеонтологический парадокс.
Кстати, Daemonelix – это так называемая ихнофоссилия, или следовая окаменелость. То есть это не остатки самого животного, а след его жизнедеятельности (как, например, отпечатки лап динозавра). И у таких следовых окаменелостей есть своя, отдельная от животных, система классификации.
Поделись видео: